Все фото сделаны автором.
У Олеши оказалось так же, только не собранное в итоге в жесткий сюжет:
"Современные прозаические вещи могут иметь соответствующую современной психике ценность только тогда, когда они написаны в один присест. Размышление или воспоминание в двадцать или тридцать строк, максимально, скажем, в сто строк – это и есть современный роман.
Эпопея не представляется мне не только нужной, но вообще возможной.
Книги читаются сейчас в перерывах – в метро, даже на его эскалаторах – для чего ж тогда книге быть большой? Я не могу себе представить долгого читателя – на весь вечер. Во-первых, миллионы телевизоров, во-вторых, надо прочесть газеты. И так далее…"
Представляете?! Роман величиной в сто строк?!
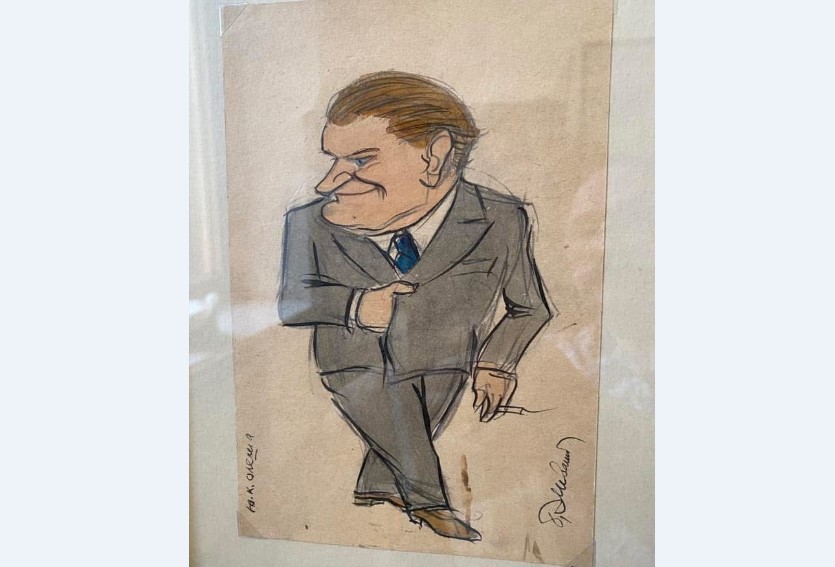
Кто сможет так писать?! И кто такое станет печатать?!
Что-то вроде приписанного Хемингуэю (на самом деле, говорят, нет): "Продаются детские ботиночки, неношеные".
А у Олеши в "Ни дня…" подобных микро-романов — десятки (если не пара сотен), как, к примеру, на моей любимой 69-й странице:
"…Я помню день смерти Толстого. Большая перемена в гимназии, в окна класса падают солнечные столбы сквозь меловую пыль, стоящую в воздухе оттого, что кто-то стирает написанное на доске, и вдруг чей-то голос в коридоре:
– Умер Толстой!
Я выбегаю, и уже везде:
– Умер Толстой! Умер Толстой!
И в мою жизнь уже много вместилось! Например, день смерти Толстого и, например, тот день, вчера, когда я увидел девушку, читавшую "Анну Каренину" на эскалаторе метро, привыкшую к технике, скользящую, не глядя, рукой по бегущему поручню, не боящуюся оступиться при переходе с эскалатора на твердую почву…"
Ну, классно же!
 Портрет О. Суок, жены Олеши, кисти М. Гронец.
Портрет О. Суок, жены Олеши, кисти М. Гронец.И на той же 69-й страничке той же старой книжки поместился еще один мини-роман, не стану приводить, а то превращу заметку в собрание цитат: не поленитесь, почитайте /перечитайте сами.
Многое тогда (в 1965-м) нельзя было; многое в текстах автора показалось редакторам неприятным и неправильным — и сильно позже, после перестройки, в новой России, как бы в честь столетия со дня рождения писателя (1899–1999) выйдет в "Вагриусе" новое издание, почти в два раза больше по объему (тридцать печатных листов против пятнадцати с небольшим): "Книга прощания".
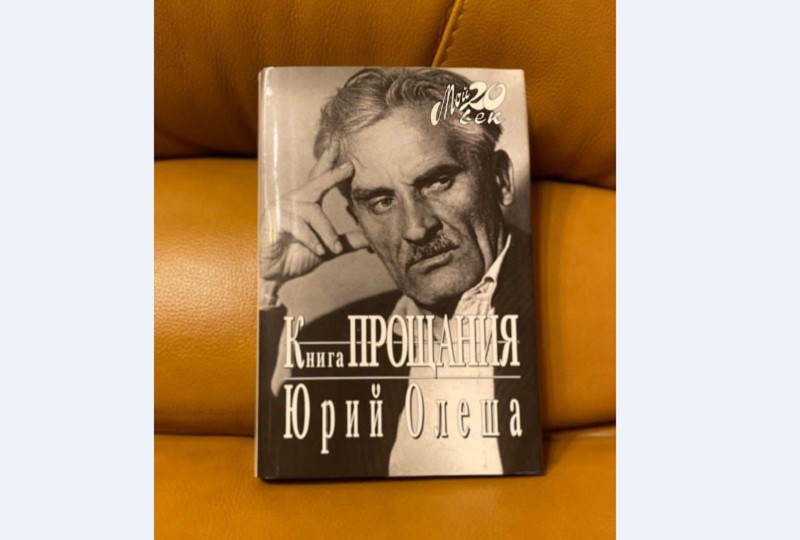
Но страна перестанет к тому времени читать, что недвусмысленно засвидетельствует тираж: 11 тысяч против 150 тысяч в первом издании в 1965-м.
А сейчас (видимо, к 125-летию художника) организовали выставку "Преодоление зависти" — на Спиридоновке, в доме-музее (почему-то) Алексея Н. Толстого (работает до 8 марта).
Выставка притулилась как бы в тени могучего советского классика: в маленькой комнатке на первом этаже и на лестнице.
Переполненные картинами из Западной Европы и дубовой мебелью комнаты "красного графа" не пострадали.
Да, в 1927 году вышла у Олеши его первая вещь "Зависть".
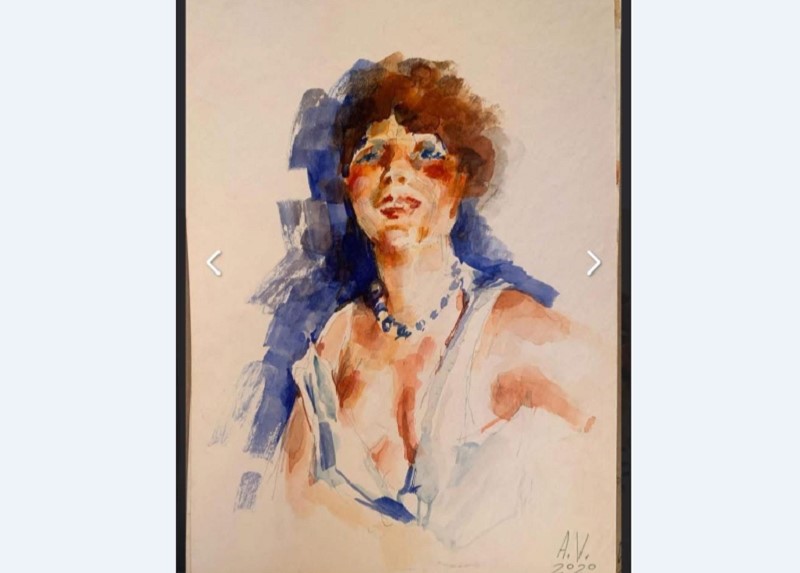 А. Высотская. Иллюстрация к повести "Зависть".
А. Высотская. Иллюстрация к повести "Зависть".Год был счастливый для советских писателей: "Двенадцать стульев", "Морфий", "Город Градов", "Египетская марка", "Человек-амфибия", "Гиперболоид инженера Гарина"…
И дебют у Олеши вышел блистательный.
Потом из-под его пера вышли великие "Три толстяка".

А потом из эпохи постепенно стали выкачивать воздух. Кто-то из авторов, как друг
Катаев, приспосабливались, подлаживались. Хотя катаевские "Поездку на Юг" и "За власть Советов" читать решительно невозможно.
А Олеша замолчал. До самой смерти. И чудом живой остался — доносов на него хватало.
Он выбрал по жизни столик у окна в "Национале".
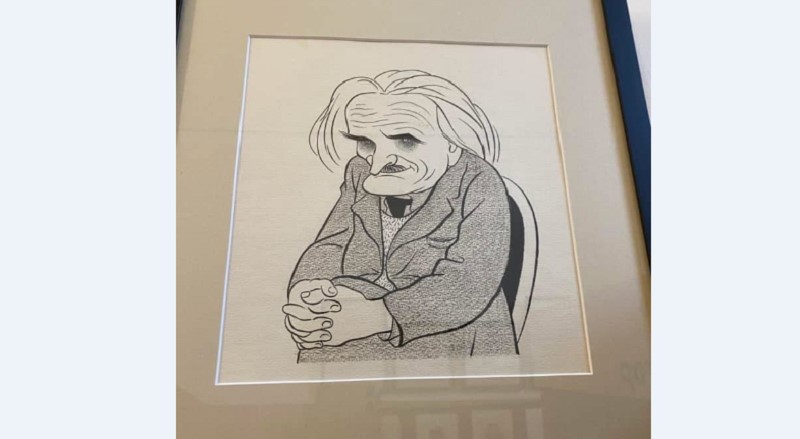
Почему-то на выставке в Доме-музея Толстого много веселых, бодрых советских девушек — и шаржей на главного героя.
 Картина авторства С. Курмаз.
Картина авторства С. Курмаз.Девушки прошелестели мимо него, полные цветов и листьев — а эпоха проехалась по нему всеми своими блестящими гусеницами с ошметками суглинка и чернозема.
